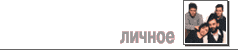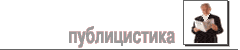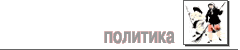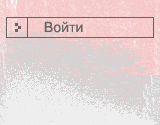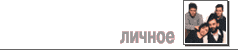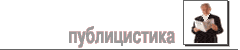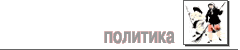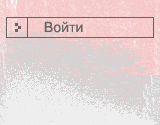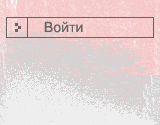
|
РЕЦЕНЗИИ... |
©Ольга Рыкова
"Визит нестарой дамы" М.: Подкова, 1999 г.
Отбросив, видимо, изрядно надоевший ярлык феминизма, писательница Мария Арбатова бросается в более разноплановые копания. И в новом своем произведении пробует распутать сразу несколько так называемых "узлов противоречий" - разных по объектам взаимоотношений, но повязанных на одном - времени: это отношения между мужчиной и женщиной, отношения целого поколения с современностью и отношения эмигрантов с "оставшимися".
При чтении ее "вполне романа" (собственное название) выявляется, что феминизм - чисто "привезенное" движение - в нем отсутствует как факт, а если и упоминается словесно, то в сугубо негативном аспекте. "Движенческий" западный феминизм имеет абсолютно внешнюю, лицевую, агитационную идеологию (именно этим отдаленную от мировосприятия Марии Арбатовой). Феминистка - женщина, в первую очередь борющаяся за свои конституционные права, противопоставляя при этом свой образ жизни сложившимся устоям.
А между тем одновременно существует более глубинное, стихийное и практически подсознательное явление - "русский феминизм". Не заимствованный у Запада и вовсе не оформленный, как некое идее-несущее движение. Явление, когда женщина, реально не изъявляя желания, становится главенствующей в труде. Такое порождение феминизма было чрезвычайно развито в России советского периода и в принципе глубоко прижилось, поэтому не так явно, но все же существует по сей день. В Советском Союзе недостаточно развивалась легкая промышленность - на подчеркивание женственности не делалось упора; к тому же во время войны вымерло целое поколение мужчин, и все мужские обязанности, соответственно, легли исключительно на женщин. А у тех же американок "логичный женский быт" был обустроен изначально и без особых проблем. Что дало им время возненавидеть его и начать борьбу за свои права.
Мария Арбатова яростно не приемлет ни ту, ни другую "ветви" феминизма и как бы выискивает "золотое сечение" данной проблемы взаимоотношений, причем делает это не в историческом аспекте, а в синхроническом - вырывая из процесса развития лишь одно свое поколение, точнее, его узкий слой - так называемую "творческую интеллигенцию". В контексте людей своего времени Мария Арбатова и определяет для себя отношения между полами на сей день. Ее можно назвать феминисткой по большому счету лишь потому, что эти отношения - как единственно вечные - она ставит гораздо выше всех политик и экономик вместе взятых - как постоянно преходящих. И в данном контексте ей неприятен как "программный" феминизм, так и женский трудовой плебейский гигантизм. Женщина, живущая с мужчиной, должна ощущать себя единственно членом семьи, ориентированным в равной степени на реализацию своего потенциала и исполнение домашних обязанностей. Все - гармонично и в меру. Мужчина же, любящий по-настоящему, не должен стыдиться занятий стиркой, готовкой и тому подобным. Штампы типа "мужественность" и "женственность" вообще должны перестать употребляться и должны быть заменены на единственно-правильное в этом случае определение - "человеческая индивидуальность". Хотя данного идеала, достигнутого в романе лирической героиней, в реальности большинству познать, скорее всего, так и не удастся.
Одновременно, пытаясь разрешить второй вопрос, писательница подводит поколение "сорокалетних" к настоящему времени и пробует спроектировать "свои" проблемы на недостижимую, быстро убежавшую вперед современность, в которой - хочешь, не хочешь - все равно приходится существовать. О себе, как о неотъемлемой части поколения "сорокалетних", Арбатова пишет: "Как всякий осколок герметичной художественной среды, я опаздывала за социумом. Для того, чтобы толком понять, что в Чечне идет война, мне надо было ее нарисовать. Я вообще адаптировалась только через холст и ватман, бог знает, что было бы со мной, если бы я не начала писать портреты на Арбате в самое горячее время. Если бы не это, я бы все на свете проспала". Главное, что холст и ватман у поколения не обязательно должны быть материализованными.
Кроме того, Мария Арбатова "распутывает" еще одно противоречие и делает "сравнительный анализ" существования своего поколения - в России и за границей. Европа нейтральна и спокойна, главным же противоречием нашему отечеству на данный момент является Америка. В результате сравнения у нее "делается" достаточно пессимистичный вывод - везде есть свои дурные аспекты. Хотя дело, в принципе, не в государствах с устойчиво сложившимися социумами, просто "здесь - не нравится, там - не нравится". Русский человек, уехавший в Америку, органически не может влиться в абсолютно параллельный жизненный уклад, но самое нелепое, что, уехав в эмиграцию, он и родину отвергнутую автоматически и навсегда теряет. Письмо "нестарой дамы": "В Америке мне все время непонятно, как показывать людям свою ценность. <...> Успеха у меня нет, а тонкая душа их не канает. Наши там завоевывают все через какой-то успех в их жизни. <...> Я думал, я для них слишком витиеватый. Хрен! Сегодня мне и в России непонятно, как показывать свою ценность людям". Начинается, опять-таки по словам Маши Арбатовой, так называемая "жизнь на краю или на обрыве". По ее личному мироощущению (как отпрыска "разбросанного" поколения), лучше оставаться пусть в плохом, но месте, тем более, что в России все же существует возможность найти "идеал отношений" по примеру героини романа, в Америке же он окончательно недосягаем за чересчур развитым культом "внешне-притягательных" жизненных извращений.
И конечно, в любом, даже "поколенческом" романе, несмотря на гигантский пласт информации и исследовательского материала, всеми своими гранями проступает личность автора, тем более что сам он вместе с другими "героями" является как бы образцом объекта исследования. Марии Арбатовой как писателю присущ творческий феномен-обманка - "самоирония с двойным дном". Писательская самоирония всегда чувствуется и ценится читателем - он ощущает через нее личностный комфорт в процессе чтения. Поэтому, например, так популярна ныне в массах Хмелевская, всевозможными способами, но мягко уничижающая себя в собственной прозе. Роман Арбатовой также целиком построен на едкой самоиронии (опять-таки распространяющейся от себя одной до всего своего поколения), но здесь есть одно "но" - за иронией этой находится еще один потаенный пласт: абсурдно и нелепо нагроможденное любование собственной эффектностью. А когда подается не-неожиданная, а уже приправленная своей готовой оценкой эффектность, она воспринимается всего лишь как натужное "выпячивание". Ирония исчезает автоматически. Поэтому в стилистически бойком языке Арбатовой часто проскальзывают претендующие на особую постмодернистскую смелость, но при этом пугающие несоответствием общему стилю спонтанно-вычурные образы: "внутри у меня был последний день Помпеи" или "дальше началось сексуальное освобождение, и чем генитальней, тем успешней". Так что к набоковским мистификациям - видимо, желанным - Мария Арбатова двинулась другим, заранее проигрышным путем. Либо - самоирония, либо - самолюбование; смешанной дороги нет. Кстати, данный ход присущ сугубо женской прозе; хотя места образного "выпада" в ней всегда выглядят неестественно. Несмотря на всю "общую идейность" Арбатовой, чисто стилистически ее женское "узорно-написанное" все равно внешне отличается...
А задуманный авторский поиск был завершен успешно. Все расставленные психологические ловушки "идеальная" героиня преодолевает. "На зеркале вверху огромными буквами моей лучшей помадой была выведена надпись с пироговской инсталляции, на нем было написано: "Кто ты?". А под надписью стояла сорокалетняя Ирина Ермакова (главная героиня) с хорошо пожеванным жизнью, но еще товарным телом, с осанкой победительницы и совершенно растерянными глазами; как кошка к дому, привязанная к Москве. И как тяжелая неманевренная телега, привязанная ко времени".
Но даже несмотря на свою внутреннюю победу, она не в состоянии помочь друзьям "по рождению" справиться с подобными переходными проблемами - ей себя, такой сложной, всегда будет вполне достаточно. Следовательно, она уже никогда не пойдет курить с ними Трубку Мира. Хотя доля своеобразного оптимизма в "поколенческих" дилеммах заложена. Причем изначально. Прочитав книгу, понимаешь, почему эпиграфом к ней даны строки поэта Евгения Бунимовича: "...Быть может, будем в девяностых / России верные сыны". Это - опять-таки о нем, о поколении.
|
|
|
|